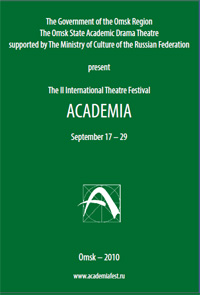Имя Максима Александровича Осипова, кандидата медицинских наук, родившегося и учившегося в Москве, работавшего в нескольких московских клиниках, а потом и в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, обрело широкую известность после создания им «Общества помощи Тарусской больнице» в 2005 году. Врач-кардиолог в расцвете сил сознательно поехал работать в глубинку и настолько удивился тому, с чем столкнулся, что написал серию очерков, документальных рассказов в дневниковой манере, и их опубликовал. После него о противостоянии врачей произволу местной власти (завершившейся полной победой справедливости) кто только не вещал - от федеральных телеканалов до Washington Post. Итак, он боец. Но также мечтатель, исследователь, гуманист - масса определений в превосходной степени приложима к нему. Мы познакомились с Максимом в 2007 году в Москве на семинаре Клуба региональной журналистики, где обсуждался тарусский опыт. А на днях встретились на Третьем международном театральном фестивале «Академия» в Омске, где в одном ряду с «Калигулой» Альбера Камю в исполнении Театра Наций с Евгением Мироновым в главной роли состоялась премьера спектакля «Русский и литература» по пьесе Осипова в постановке московского режиссера Елены Невежиной. Центральную фигуру - провинциального учителя словесности - сыграл Михаил Окунев, заслуженный артист России. Две других главных роли - начальницы Ксении и мусульманки Роксаны-Рухшоны блистательно исполнили Ирина Герасимова и Анна Ходюн. Сообщу, что пьесой уже заинтересовались и новосибирские драмтеатры, и театры других городов, следящие за социальными сдвигами и обеспокоенные гуманистическими поисками.
- Максим, вы сегодня счастливый драматург, спектакль по вашей дебютной пьесе вызвал и горячее приятие, и страстную полемику. Давайте, однако, начнем разговор не с сегодняшнего дня. Я намерена задавать самые простые вопросы, точно зная, что честно отвечать на них трудно. Первое: почему вы стали врачом?
- Тут было несколько причин. Во-первых, дома у нас всегда с почтением относились к врачебной профессии: мой прадед-терапевт (главный мой прадед, у каждого человека ведь четыре прадеда) в тридцатые годы сидел еще по первому делу врачей, на Беломорканале, отсюда и 101-й километр, Таруса. Врачом, хирургом, была моя двоюродная тетка, очень любимая. Кроме того, у отца рано случился инфаркт, так что врачи вокруг появлялись. Помню детское впечатление от разных московских светил - с мягкими белыми руками, внимательные, полностью отдающие себя разговору. Гонорар, по словам взрослых, они брали так, что нельзя было быть уверенным, что вы ему его дали - не хуже того врача, у Пруста. Упоминая про гонорар, я не хочу их никак продавать: во многих отношениях это были самые лучшие люди. Теперь светил нет, что отчасти грустно, но, в общем, естественно. Это отдельный разговор, не для сегодняшнего интервью. А потом, я думаю, выбор был сделан методом исключения: я учился в физико-математической школе, в знаменитой Второй школе. Несколько ребят, учившихся вместе со мной, проявляли такой талант к математике, что было ясно - никакими усилиями мне их не обойти, да и интереса большого не было. Талант и интерес - это ведь в значительной мере одно и то же. К естественным наукам - биологии, химии - у меня интереса тоже как-то особенно не было. А к гуманитарным вещам хоть и имелась какая-то склонность, но вы ведь помните конец семидесятых - что тогда насаждалось, как мало было свободы. В общем, из интеллигентных профессий только и оставалась медицина. И опять-таки: врач - он и в лагере врач, так говорили тогда.
- Мне, например, в юности тоже хотелось непосредственным образом помогать людям, но при виде рваных ран, хлещущей крови валилась в обморок...
- Где вы видели рваные раны и хлещущую кровь? Они никому не нравятся. Как и покойники. Так сказать, отрицательная сторона профессии. А не слишком ли мы много говорим про медицину? Ладно, чтобы закончить с ней - медицину слишком героизируют, врач для неврача слишком «другой». Есть в медицине несколько составляющих - во-первых, математическая, алгоритмическая: если мы увидим то-то, поступим таким-то образом, а если другое, то эдаким. С алгоритмическим мышлением очень плохо у российских врачей в их массе. Во-вторых, есть естественнонаучная составляющая - надо понимать, чувствовать живое. С естественными науками, я уже говорил, у меня было не очень хорошо. И в-третьих - гуманитарная составляющая: умение слушать, самому говорить, убеждать. Требуется отношение. И потом - свойства личности: умение принимать решение, ему следовать, менять его, если требуется.
- ОК. Что дала вам практика в Америке помимо хорошего знания английского языка и каких-то методик?
- Мы, живя в СССР, были лишены того, что называется «годы учения и странствий». Учение было, странствий не было. Расширение представлений о мире и своем месте в нем. Но у меня в тот год - это был как раз 1991-92-й - многое совпало: смерть отца, конец СССР. Снова: это очень длинный и личный разговор, давайте поговорим о другом.
- Как возникла идея заняться книгоиздательством? Это же не в чистом виде бизнес? Или довольно малоприбыльный бизнес.
- О, да. Я и занимался издательством не как бизнесом, а как деятельностью. Видите ли, я в Америке написал книгу по эхокардиографии, как-то необыкновенно легко нашел деньги в Москве, чтобы ее издать, она хорошо продавалась, и возникло издательство «Практика». На пустом, в общем, месте. Бернард Сачер, мой американский друг, очень помог. Потом появились еще два человека - Клаус Михалец и Эрика Нойберт, немцы. Им я тоже очень признателен за поддержку, не только финансовую. Тогда у меня было ощущение, что Россия наконец-то пойдет по европейскому пути, хотя бы отчасти, и что медицина ее пойдет по западному пути... Мы издавали переводные книги - «Терапевтический справочник Вашингтонского университета», «Внутренние болезни по Харрисону», вот такие. «Харрисон» - это вообще лучшая медицинская книга всех времен и народов. Хорошая книга - это и был для нас результат. Для меня, во всяком случае. Надо упомянуть главного редактора «Практики» Дмитрия Самойлова, моего друга. Мы очень много сделали открытий в области медицинского перевода. Но, увы, и страна пошла не в том направлении, да и мы в силу разных причин не сумели поддержать уровень. Той «Практики», которую я создавал, больше нет.
- Но вы ведь издавали не одни только медицинские книги...
- Да, были исключения. Например, «Труды» митрополита Антония Сурожского, два больших тома. Мой друг Елена Львовна Майданович предложила мне сделать такую книгу - на две стороны: для церковных людей и для интеллигенции. Или вот «Музыкальный словарь Гроува», его сделал Левон Акопян, тоже друг...
- Откуда у вас повышенный интерес к классической музыке, к нюансам исполнительских трактовок?
- Что значит - повышенный? Нормальный, мне кажется, интерес.
- Хорошо. Спрошу так: за что вы любите музыку?
- Вот так вопрос! Пусть лучше те, кто ее не любят, ответят вам, почему. Кстати, среди писателей не так уж часто встречается активная нелюбовь к музыке. Вот, у Набокова, например. Но он и Достоевского не любил. Ладно, Бог с ним, с Набоковым. Как вам ответить? Во-первых, музыка - это чистый смысл. Чистый, очищенный. Существует, конечно, иллюстративная музыка. Возможны и разные политические моменты - у Чайковского в увертюре «1812-й год» Марсельеза сменяется гимном «Боже, царя храни». Но это не лучшее сочинение Чайковского. Помните, в «Бесах» Лямшин импровизирует на фортепиано - «Франко-прусская война»: Марсельеза переходит в «Ах, майн либер Августин». Чайковский наверняка читал «Бесов». Со мной этим наблюдением поделился упомянутый Левон Акопян. Еще музыка имеет дело с длительностями, едва различимыми человеческим слухом - с сотыми долями секунды. Тем самым, она существует в реальном времени. На театральной сцене пауза в несколько секунд - это огромная пауза, а в музыке - это вообще вопрос бытия: мы с вами вот разговариваем, можем о чем-то сказать сейчас или потом, в музыке все не так. Сердце может остановиться на три секунды - это пройдет незамеченным для организма, в музыке же подобный сбой недопустим. Еще одно: музыка обращена к человеческому слуху, а из всех органов чувств слух - самый возвышенный, слово тоже обращено к нему, так это понимается и в ветхозаветной традиции, и в нашей русско-немецко-еврейской культуре. Боюсь, я опять говорю о вещах, лежащих немножко вне моей компетенции.
- У всех перед глазами опыт Чехова. А у вас, человека сегодняшнего, медицинская практика не противоречит литературному труду?
- Литературному труду вообще ничто не мешает. То есть мешает - неискренность, стилизация или занятия, напоминающие литературный труд, но им не являющиеся, например, простите меня, журналистика. Медицина не мешает писательству, только способствует, как способствует ему всякое сцепление с жизнью, с подлинными страданиями и радостями. Другое дело, что литературный труд мешает медицинской работе - я от своих пациентов скрываю свои литературные занятия, да и привычка к подсматриванию, подслушиванию, которая вырабатывается сочинительством, мешает работать врачом. Не говоря уж о том, что на то и на другое требуется много времени.
- Давайте поговорим о «Русском и литературе». Довольны ли вы постановкой? Говорят, не бывает довольных авторов.
- Правда, меня об этом предупреждал Олег Лоевский - человек, которому я обязан тем, что пьеса моя попала в театр. Лоевский - завлит всея Руси, такое я дал ему прозвище, - ошибся в моем случае: я - довольный автор. То, что сделала с моей пьесой Елена Невежина, меня полностью устроило. Были в наше работе и периоды несогласия, непонимания, но в итоге, мне кажется, все получилось, сбылось.
- В спектакле звучит много музыки. Вы участвовали в ее выборе?
- Музыки на самом деле не так много. Всего две пьесы: прелюдия Лядова в исполнении Владимира Троппа, моего друга, и Серенада из Пятнадцатого квартета Шостаковича. Эти пьесы предложил Невежиной я. На самом деле я много чего предлагал - был замечательный Метнер, которого отвергли в итоге, и еще Шостакович, Дворжак, Шуман, она остановилась на этих двух пьесах. Еще в пьесе есть советская песенка, очень плоская, инфантильная, но она совершенно на месте в ней. Невежина сумела вдохнуть в моих героев жизнь, которую они до этого вели только на бумаге. Спасибо ей и артистам за это.
- Каждому автору нравится, когда его вещь играют, как написано.
- Именно. Все-таки режиссерское, актерское искусство - это искусство исполнительское. C широкими, чрезвычайно широкими полномочиями, но и с какими-то рамками. В этих рамках можно создавать очень многое, и мне досадно, когда режиссеры ставят Шекспира и Гоголя так, будто у тех вовсе отсутствовала фантазия. Мне не нравится, когда Офелию насилуют солдаты - и без того ей хватает неприятностей. Это все ложные трактовки. Нельзя играть Баха и Прокофьева одинаковым звуком, одинаковыми штрихами, приемами, и Шекспира ставить теми же средствами, что Вампилова или Беккета, тоже нельзя. Искусство, говорил очень близкий мне человек, протоиерей Илья Шмаин, это саморазвитие правды, ничего более. Я очень люблю эту мысль.
- Получается, режиссер должен только угадать, что запрятано в вашей работе...
- Но я и сам не знал, что в ней запрятано, пока Невежина мне не открыла глаза.
- Я знаю не один десяток драматургов, не графоманов, одаренных людей, бьющихся как рыба об лед о невозможность довести свои пьесы до сцены. Вам же удалось сделать так, что вашу дебютную пьесу практически сразу после написания поставили в ведущем театре страны. Как вы считаете, в этом есть элемент удачи или это объективная оценка вашей работы?
- «Случай! - сказал один из гостей. - Сказка! - заметил Германн». Понимайте как знаете. На самом деле все получилось не вдруг. Элемент удачи есть, разумеется. Удача в том, что пьеса попала к Лоевскому. Боюсь сделать Олега Семеновича объектом охоты упомянутых вами драматургов, но, кажется, его и так знают все.
- Наслышана, что в процессе репетиций вы спорили с режиссером Еленой Невежиной, которая, кстати, постоянно выпускает спектакли в нашем новосибирском театре «Глобус», где разногласий с авторами не имеет. Ставила Хармса, Булгакова. Получается, что хороший автор - это мертвый автор?
- Ну да, спорили. Что же с того? А про мертвых авторов - кому что нравится. Если согласие с автором покупается такой ценой... У мертвого автора зато интервью не возьмешь.
- Успех «Русского и литературы» развернул вас лицом к театру. А возбудил ли в вас азарт, драматургический зуд? Проще говоря, вам теперь хочется писать одну пьесу за другой?
- Нет, не хочется. Успех пьесы - если только это действительно успех: прошло четыре спектакля, кто знает, сколько их еще будет? - не сделал меня человеком театра. Театр, как и любая иерархическая структура, защищает себя от внешних людей, даже если сам не сознает этого. Один мой товарищ хотел, например, узнать побольше о медицине - слушал наши разговоры с коллегами, задавал вопросы. В какой-то момент - мы говорили о пациенте с инфарктом - он воскликнул: «Какой ужас! А у меня тоже может случиться инфаркт?» - «Нет, нет, у тебя не может». Всё, надо прекращать разговор. Голубчик, иди. Вот и в театре так: одна поставленная пьеса, пусть и в очень хорошем, одном из лучших театров страны, еще не означает, что ты переступил его порог, что ты очутился внутри. И потом, написал одну пьесу, со следующей не будет проще. Приобретаются, конечно, знакомства, какая-то репутация, но что они значат, когда перед тобой чистый лист бумаги или пустой экран компьютера?
- Что вам представляется самым сложным в литературном труде - поиск темы? Определение системы образов? Форма?
- Самое сложное - поиск интонации. Когда она найдена, когда герои заговорили, надо только успевать за ними записывать. Чувство формы как раз первично, оно приходит само. Что-то должно приходить само, иначе писание становится непосильным трудом. Но я слишком мало еще написал, чтобы формулировать законы художественного творчества. Надеюсь писать еще, но не все от меня зависит.
- Мне представляется большим достоинством вашей пьесы то, что в ней заявлен и оставлен открытым национальный вопрос. В эру нашей разобщенности именно национальные и религиозные разногласия обусловливают остроту конфликтов на всех уровнях - и бытовом, и политическом. Но почему вы сосредоточили внимание на христианстве и исламе, а не на иудаизме?
- Как раз национальный вопрос в пьесе-то и не заявлен. Заявлено другое: и христианство, и ислам - это мировые религии, и не надо загонять их в национальные рамки. Я слышал, что в Татарстане к русским мальчикам, носящим на шее крестики, относятся вполне терпимо, а вот если крест носит татарский мальчик, то ему следует ждать неприятностей. Вот это ужасно. Ты русский, значит, ты православный. Ты еврей, значит, ты иудей. И так далее. Но так не должно быть! Для современной русской начальницы ислам, на мой взгляд, куда более органичная религия, чем христианство. А иудаизм - что говорить о том, чего в пьесе нет? Да иудеи и не занимаются прозелитизмом. Вообще, вопреки тому, что принято думать, национальный вопрос стоит в нашей стране сейчас не так остро: с тех пор как народы перестали заставлять дружить, положение улучшилось. Религиозный вопрос - другое дело. Есть представление, что все религии говорят об одном и том же, учат, пусть и по-разному, одному. Это не так. Да, кое в чем они совпадают. Но лишь кое в чем.
- Давайте еще поговорим об идейном содержании вашей пьесы. Когда вы писали ее, не боялись ли упреков в русофобии? В отрицании нынешней российской действительности? В замахивании на устои?
- По всем пунктам обвинения я отвечу отрицательно: во-первых, у меня очень выгодная профессия и очень выгодное географическое положение: Таруса, больница и все такое, бояться мне нечего. Во-вторых, кроме таджиков, у меня в пьесе все русские: Учитель, Верочка, Парикмахерша - тоже русские. В Учителе, это я говорил уже, есть лучшее, что встречается в русских людях - аристократизм и простота. Я мало бывал в Сибири, но мне показалось, что в здешних людях это сохранилось в большей степени, чем на европейской территории России. И еще: те, кто называют себя патриотами, часто прячут за декларируемой любовью к родине свою никчемность, свою пустоту: мол, мы любим страну сильнее, чем всякие умники. А когда доходит до дела - вспомните, сколько интеллигентов пошло в ополчение в 1941 году под Москвой и погибло там. Словом, упреков такого рода я и слышать не хочу.
- У вас в пьесе действуют три главные силы: начальница Ксения, мусульманка Рухшона и Учитель, русский интеллигент. За кем остается победа?
- Пожалуй что, ни за кем. Чья-либо решительная победа была бы отклонением от правды, от художественной правды, как я понимаю ее. И мне очень дорого то, что эта полифоничность сохранилась в постановке Омского театра. Искусство, как мне кажется, обладает важным свойством - оно расширяет сознание. Но делает это ненасильственным способом, не лишает зрителя, слушателя, читателя свободы. Ведь сознание расширяется - по крайней мере, на первых порах - и от алкоголя, и от наркотиков. Но они в итоге привязывают к себе, порабощают. Так и на сцене - слишком громкие крики, сцены насилия, порнография лишают зрителя свободы, действуют чересчур непосредственно, в лоб, минуя сознание. Я рад, что при постановке моей пьесы в Омском театре драмы всего этого удалось избежать.
- На днях у вас вышла новая книга, «Человек эпохи Возрождения». Что в нее вошло?
- Это своего рода итог моей пятилетней писательской деятельности. Вошло все, что я считаю у себя самым получившимся, самым лучшим. Три новые вещи: «Домашний кинотеатр» - рассказ про любовь, про свадьбу, в мажоре, но с отклонениями в минор. В мажоре писать, между прочим, труднее: минор - это уже какая-то краска, уже кое-что. Повесть «Фигуры на плоскости» - про неудавшегося шахматиста, о преодолении родового проклятия, о попытке увидеть в жизни новые измерения, объем, и, наконец, повесть «Человек эпохи Возрождения» - о нашем современнике, человеке очень обеспеченном, но брезгливом и жалком - он полагает, что жизнь состоит только из работы и отдыха. Грустная вещь, не святочная. Еще есть несколько рассказов и, кстати, «Камень, ножницы, бумага» - повесть, из которой выросла пьеса, в новой редакции. А в конце - «101-й километр» - очерки из жизни русской провинции, они уже публиковались в предыдущих сборниках. На обложке - работа Эдуарда Штейнберга, недавно умершего художника, замечательного, а сзади - отзыв Юрия Норштейна, очень благожелательный. Ну, на обложках не размещают плохие отзывы. За то, что вышла книжка, надо благодарить прежде всего Варвару Горностаеву, главного редактора издательства Corpus. Если бы не она, книжки бы не было.
- Чудо, что вышла книга, учитывая то, что издательства и система книготорговли загибаются...
- Чудо, вы правы. Чудо.
Интервью брала Ирина УЛЬЯНИНА
"Новая Сибирь"